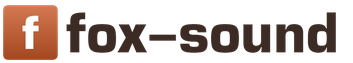Восстания конца I в. до н. э.- начала I в. н. э. явились показателем крайнего обострения классовых противоречий в Ханьской империи и назревания глубокого внутреннего кризиса.
Мероприятия Лю Сю и политика следующих за ним императоров новой династии, получившей название Младшей династии Хань, в конечном итоге определялись теми глубокими изменениями, которые происходили в социально-экономической основе империи.
Сразу после своего утверждения на императорском престоле, Лю Сю, известный в истории под именем Гуан У-ди (25-57), провозгласил эру мира и объявил, что будет действовать по примеру своего предка Лю Бана.
Он понимал, что в обстановке полыхающих по всей стране восстаний и хозяйственной разрухи нельзя действовать только силой. Решительно и жестоко расправляясь с народными движениями, Лю Сю вместе с тем издавал указы, несколько облегчающие положение угнетённых масс...
В ходе восстаний 18-28 гг. многие рабы были освобождены отрядами повстанцев или сами бежали от господ. После подавления народного движения Гуан У-ди не только не предпринимал попыток возвратить рабов прежним владельцам, но и неоднократно издавал указы об ограничении рабства и облегчении положения рабов.
Рядом указов 26-37 гг. были объявлены свободными люди, продавшиеся в рабство из-за голода за время гражданских войн, а также люди, насильно обращённые в это время в рабство. Изданный Гуан У-ди «закон о продаже людей» был попыткой ограничить практику насильственного захвата и продажи в рабство свободных.
В 31 г. был издан указ об освобождении некоторых категорий государственных рабов. Он гласил: «Те чиновники и люди из народа, которые во времена Ван Мана были схвачены и обращены в рабов за несогласие с прежними законами, должны быть освобождены и стать свободными».

В 36-39 гг. Гуан У-ди издал несколько указов, освобождающих некоторые категории частных рабов в ряде областей империи. В 36 г. н. э. был издан указ об ограничении права рабовладельцев на убийство рабов. Годом раньше императорским указом было запрещено клеймить частных рабов.
Ко времени правления Гуан У-ди хозяйственное значение областей в бассейне р. Вэйхэ, являвшихся основной житницей государства во II в.- середине I в. до н. э., значительно падает в связи с запущенностью и разрушением ирригационной системы Вэйбэй и уступает место районам, расположенным к востоку от Чанани - на территории современных провинций Хэнани, Шаньдуна и Южного Хэбэя.
В этих областях ещё во второй половине I в. до н. э. местными властями были созданы ирригационные сооружения, способствовавшие их экономическому подъёму. В начале I в. н. э. области, расположенные на территории Великой Китайской равнины, стали наиболее развитыми в экономическом отношении.
В связи с возросшим хозяйственным значением этих областей и упадком областей в долине Вэйхэ Гуан У-ди перенёс столицу империи на восток, в г. Лоян. Как Гуан У-ди, так и его преемники обращали большое внимание на поддержку ирригационных сооружений в бассейне нижнего и среднего течения Хуанхэ.
При Гуан У-ди правительство предпринимало энергичные меры, чтобы наладить хозяйство страны. Чиновникам были отданы распоряжения о поощрении земледелия и шелководства. Беднякам, не имевшим земли, раздавались на льготных условиях государственные земли (гун-тянь).
Переселенцев на несколько лет освобождала от налогов и повинностей. Крупные владения опальных землевладельцев частично были распределены между людьми, лишившимися крова. Восстанавливалась и на. лаживалась государственная администрация.
В многолетней напряжённой борьбе с децентрализаторскими тенденциями крупных аристократических семей, усилившихся во время восстании и междоусобии, Гуан У-ди удалось добиться укрепления и централизации империи.
Став императором и приняв имя Гуан У-ди, Лю Сю во многом продолжил начатые Ван Маном преобразования. Он активно преследовал практику порабощения людей и даже освободил казенных рабов. Позаботился он и о том, чтобы крестьяне получили земли и успешно их возделывали, причем частично для этого были использованы пустующие земли государства и некоторых из сильных домов. Была заметно укреплена централизованная администрация, снова сокращен земельный налог до 1/30 урожая. Все эти меры дали результат, и экономика страны быстрыми темпами стала восстанавливаться. Вслед за ней стабилизировалась внутренняя и внешняя политика, что проявилось, в частности, в отражении гуннов (сюнну) и открытии вновь для торговли Великого шелкового пути в результате походов знаменитого полководца и умелого китайского дипломата Бань Чао. Однако эта стабилизация продолжалась сравнительно недолго. Уже с начала II в. положение в стране начало заметно ухудшаться.
Здесь уместно сказать несколько слов об особенностях китайского династийного цикла, наиболее наглядно проявивших себя именно в годы существования империи, начиная с Хань. Как правило, каждая династия сменяла предшествующую в обстановке тяжелого экономического кризиса, социальных неурядиц и ослабления политической централизованной власти, что проявлялось в форме мощных народных движений, подчас в виде вторжений с севера и иностранных завоеваний. Механизм цикла, в ходе которого возникал очередной кризис, достаточно сложен; здесь играли свою роль и экономические причины, подчас и демографическое давление, и экологические, и иные объективные факторы. В самом общем виде дело обычно было связано со следующими процессами.
Китайская сельская община как сильный и тем более эффективно отстаивающий свою автономию институт была разрушена еще в древности. Перед лицом казны каждый двор отвечал сам за себя, при всем том, что казна была заинтересована в облегчении и гарантировании сбора налогов и с этой целью искусственно поддерживала некоторые традиционные формы, взаимной ответственности в рамках общинной деревни. Относясь к общине как к важной социальной корпорации, каковой она и была, власти еще во времена реформ Шан Яна в Цинь и затем во всей циньской империи ввели удобный для них метод круговой поруки, создав искусственные объединения дворов в пятидворки, в пределах которых каждый отвечал за выполнение налоговых и иных обязательств четырьмя остальными, вплоть до обязанности восполнять недобор за собственный счет. И хотя этот жесткий метод функционировал в империи не всегда, о нем всегда вспоминали, когда следовало укрепить позиции власти. В частности, это было и при Ван Мане. Сказанное означает, что перед лицом казны все землевладельцы были налогоплательщиками и все были равны в социально-сословном плане. Это касалось и сильных домов. Исключение делалось лишь для некоторых категорий привилегированных лиц - для чиновников и высшей знати из числа родственников императора.
Соответственно для государства существовали лишь две формы земельного владения - государственные (они же общинные) земли, на которых жили и работали обязанные выплачивать ренту-налог в казну и нести различные повинности земледельцы, и казенные служебные земли, фонд которых предназначался для содержания двора, высшей знати и чиновничества, в основном на началах временного, условного и служебного владения. Земли первой категории чаще всего именовались термином минь-тянь (народные*), вторые - гуань-тянь (казенные, чиновные). Вторая категория была сравнительно небольшой, обычно не более 15-20 %. Все остальное приходилось на долю минь-тянь. Предполагалось, что земли минь-тянь более или менее равномерно распределены между земледельцами, вследствие чего каждый пахарь имеет свое поле и аккуратно платит налог в казну (земли гуань-тянь тоже обрабатывались крестьянами, но налог с них шел их владельцу - чиновнику, двору и т.п.). Практически, однако, это было лишь в идеале. Реально жизнь складывалась иначе. У одних земли было больше, у других меньше, богатые теснили малоимущих, правдами и неправдами присоединяли к себе их земли и становились еще богаче, превращались в сильные дома, тогда как бедняки лишались последнего клочка земли («некуда воткнуть шило», по выражению китайских источников). Что все это означало для государства, для казны?
* Иногда этот термин смущает исследователей, упускающих из виду, что реально это были земли, верховную власть на которые имело государство, время от времени свободно ими распоряжавшееся, в частности, наделявшее ими крестьян после кризисов.
Традиционное китайское государство с глубокой древности было едва ли не классическим воплощением принципа власти-собственности и централизованной редистрибуции. Именно за счет редистри-буции избыточного продукта существовал веками тот хорошо продуманный и почти автоматически воспроизводившийся аппарат власти, который управлял империей. Пока крестьяне имели наделы, обрабатывали землю и платили ренту-налог в казну, структура китайской империи была крепкой и жизнеспособной. Но коль скоро земли в значительном количестве переходили к богатым землевладельцам - а это рано или поздно всегда случалось, - ситуация начинала меняться. Богатые владельцы земли, сдававшие ее в аренду нуждающимся за высокую плату, отнюдь не всегда с готовностью брали на себя выплату в казну причитающегося ей налога. Напротив, богатые земледельцы обычно уменьшали ту долю налога, которую должны были платить в казну. И они имели для этого немало возможностей, начиная с того, что из их числа выходили чиновники, в руках которых была власть (своя рука всегда владыка), и кончая возможностью дать взятку тем же чиновникам и с их помощью избавиться от большей части налога.
Результат всегда был однозначным: казна недополучала норму прихода, аппарат власти был вынужден довольствоваться меньшим, т.е. затягивать пояса, причем это нередко, как упоминалось, компенсировалось усилением произвола власти на местах (новые поборы, принуждения к взятке и т.п.). Это, в свою очередь, вело к углублению кризисных явлений как в сфере экономики (потеря имущества, затем и земли), так и в социальных отношениях (недовольство крестьян и их побеги, появление разбойничьих шаек, восстания), а также в области политики (неспособность правящих верхов справиться с положением, возрастание роли временщиков, заботившихся лишь о том, чтобы половить рыбку в мутной воде, и т.п.). Собственно, именно к этому и сводился обычно в истории Китая династийный цикл.
Циклы такого рода были не только в Китае, и об этом уже шла речь, когда говорилось о смене периодов централизации и децентрализации в различных государствах Востока, начиная с Древнего Египта. Но в китайской истории династийные циклы всегда были наиболее наглядны, это своего рода эталон, с помощью которого лучше всего можно вычленить и проанализировать само явление как таковое. Цикл завершался обычно воцарением новой династии, что вело к ликвидации кризиса частично за счет уничтожения в огне мятежей и войн богатых собственников, отчасти за счет общего уменьшения погибшего в годы войн и неурядиц населения страны, а также возникавшей вследствие этого благоприятной возможности вновь раздать каждому из уцелевших надел земли, дабы они исправно работали и платили налоги, вначале заметно уменьшенные.
Можно добавить ко всему сказанному, что иногда привычный цикл усложнялся за счет предпринимавшихся властями более или менее удачных реформ, с помощью которых кризис временно снимался усилиями сверху. В этих нередких случаях династийный цикл как бы прерывался посредине. Но вскоре процесс начинался заново, завершаясь, как обычно. К числу удачных реформ относились те, которые реально гасили кризисные явления. Реформы Ван Мана, при всей их комплексности и потенциальных возможностях, к ним отнести нельзя. Первая династия Хань пала жертвой кризиса. Начало второй династии Хань было связано с его преодолением. Но прошло немного более века - это довольно обычный срок в рамках цикла, о котором только что шла речь, - и состояние процветания, в котором находилось ханьское государство, вновь пришло к концу. Во второй четверти и особенно с середины II в. стали все ощутимее проявлять себя симптомы дестабилизации, а затем и нового приближающегося кризиса.
Процесс обезземеливания крестьян с начала II в. шел все возраставшими темпами, как за счет поглощения земель богачами, так и в процессе своего рода коммендации, т. е. добровольной отдачи своих земель, себя и своей семьи под покровительство сильного дома с целью получения от него защиты в смутное время, связанное с ослаблением эффективности власти центра. Явление это, хорошо знакомое и другим обществам в периоды феодальной раздробленности и междоусобиц, приводило к формированию устойчивых патронажно-клиентных связей, что в конечном счете опять-таки усиливало позиции сильных домов и ослабляло позиции казны. Процесс протекал на фоне очередного острого политического кризиса в ханьском императорском доме: начиная с II в. власть правителей ослабевала за счет усиления временщиков из числа родни влиятельных императриц. Активную роль в политике вновь стали играть евнухи, имевшие уникальную возможность быть опосредующим звеном между внутренними покоями двора и внешними связанными с гаремом силами. Усиление временщиков и евнухов влекло за собой неизбежное ослабление позиций служилой конфуцианской бюрократии, вплоть до высших сановников империи.
Следствием всего этого был не просто упадок власти, но также и рост произвола и беззаконий, особенно со стороны влиятельных временщиков, стремившихся не упустить свой час. Беззакония и произвол в свою очередь рождали в народе резкое недовольство, находившее свое наиболее заметное отражение как в росте волнений и восстаний, так и в усилении так называемой чистой критики со стороны влиятельных конфуцианцев, включая и многие сильные дома. Центром критики стали учащиеся столичной школы Тай-сюэ, где готовились кадры чиновников. В 60-70-е годы II в. борьба между чиновниками и сочувствовавшими им конфуцианцами с их чистой критикой, с одной стороны, и временщиками и евнухами - с другой, обострилась до предела. Страна была на грани политического краха.
Именно в это время начал набирать силу все возраставший социальный протест, принявший форму сектантского движения под лозунгами даосизма. Последователи философского даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы к этому времени трансформировались в сторонников даосизма религиозного, в центре которого оказались извечные крестьянские идеалы «великого равенства» (тай-пин) и надежды на мистические методы достижения долголетия и бессмертия. Глава секты «Тайпиндао» Чжан Цзюэ, прославившийся искусством врачевания и, по преданию, спасший в тяжелые годы эпидемии множество стекавшихся к нему и веривших в его чудодейственную силу людей, на рубеже 70-80-х годов неожиданно оказался во главе многочисленной и активной секты сторонников нового «желтого» неба, которое в 184 г. (начало очередного 60-летнего цикла, игравшего в Китае роль века) должно было прийти, по представлению сектантов, на смену погрязшему в пороках «синему» нео Хань. Покрывшие свои головы желтыми повязками сторонники секты планировали именно в этот сакральный момент поднять восстание, о чем было известно уже всем в Китае.
Власти попытались было предупредить восстание, которое вследствие этого началось преждевременно, что сказалось на его ходе и результатах. Первые успехи восставших оказались недолгими и в конечном счете движение потерпело поражение. Однако подавление восстания Желтых повязок оказалось пирровой победой для Хань: имперская администрация и двор вскоре после этого потеряли всякое влияние на ход событий, а главную роль в деле окончательного подавления рассеявшихся по стране мятежников и во всей последовавшей за этим политической борьбе стали играть удачливые военачальники, опиравшиеся на сильные дома. Можно считать, что с этого момента - с конца II в.- на передний план в жизни Китая на несколько веков вышли военные, а военная функция стала ведущей в политической жизни распавшейся на части бывшей империи.
Бог войны и воинской доблести, покровитель воинов, сражающихся за правое дело. Таким является этот бог, которому поклонялись вплоть до середины XIX века.
В этом образе слились воедино древние представления о боге войны и овеянные легендами истории о действительно существовавшем доблестном воине по имени Гуань Юй, жившем в 160–219 годах.
Судя по всему, в древности Гуань ди каким то образом был связан с мифическими драконами. Во всяком случае, в Средние века были распространены сказания о том, что перед рождением Гуань Юя над домом его родителей кружил дракон. По другой версии, он был чудесно рожден из крови казненного дракона Юй ди, которую слил в свою чашу буддийский монах. Поэтому в жилах Гуань Юя текла кровь дракона.
Рассказывали, что он с детских лет обладал необычайной силой и бесстрашием. Свой первый подвиг он совершил, убив жестокого правителя уезда, который творил произвол. Чтобы его не смогли опознать, он умыл лицо водой из волшебного ручья. Впрочем, если он действительно совершил такой отчаянный поступок, благодарные земляки и без того не выдали бы его.
Возможно, что в этой истории есть доля правды, ибо дальнейшее поведение героя вполне реалистично и прозаично: он стал продавцом соевого сыра и таким образом сумел даже немножко разбогатеть. Впрочем, второе могло случиться после того, как он, поступив на службу правителю, был ему беззаветно предан.
По видимому, эпизодами биографии Гуань Юя объясняется то, что своим покровителем считали Гуань ди не только военные, но и торговцы соевым сыром и даже коммерсанты, богачи (или для них было важно иметь надежного охранника?). Буддийские монахи тоже чтили его прежде всего как защитника монастырей.
Почитание Гуань ди превратилось в настоящий культ личности, при котором реальный Гуань Юй стал мифологическим героем, а его достоинства и деяния превозносились поистине до небес. Императоры жаловали ему почетные титулы – как вечно живому. В конце XVI века при династии Мин ему был присвоен титул «ди» – государь.
В середине XIX века Гуань ди получил титул «шэн» («совершенномудрый») после того, как он будто бы появился в небе и помог правительственным войскам победить тайпинов – восставших крестьян, попытавшихся создать народное государство. Хотя в действительности правителям династии Цин в данном случае помогали англичане, американцы и французы. Впрочем, еще через полвека участники антиимпериалистического восстания 1900 года тоже молились Гуань ди.
Нет сомнения, что культ верного слуги и доблестного воина укореняли и распространяли прежде всего государи, кровно заинтересованные в такого рода пропаганде. Ему было посвящено почти тысячи больших и малых храмов, рассыпанных по всему Китаю. Его чтили представители разных религиозных направлений. Буддисты утверждали, что он был обращен в их веру. А даосы сложили легенду о том, что Гуань ди победил в бою мятежника чудище Чию, которого в Древнем Китае чтили как свирепого бога войны, зверочеловека с головой барса и когтями тигра, владевшего всеми видами оружия. По другой версии, у чудища были копыта и рога быка, тело человека, четыре глаза и шесть рук. Считалось, что он восстал против легендарного правителя Хуан ди.
По сути дела, в аллегории о победе верноподданного Гуань ди над мятежным Чию была своя правда: со временем, при значительном укреплении власти императора, в народе стали преобладать верноподданнические настроения (противоположные были опасны и искоренялись жестоко). Этому способствовало и то, что Гуань ди был примером верности долгу, а потому считался покровителем торговцев. Пользовался он популярностью и как один из богов богатства. Для конфуцианцев он стал покровителем ученых и литераторов, потому что, согласно преданию, его настольной книгой было сочинение Конфуция «Вёсны и Осени».
На примере Гуань ди особенно ясно видно, как происходит мифологизация исторической личности. Вовсе не обязательно предполагать, что тут играют важную роль какие то мистические силы, сложные философские соображения. Слишком часто объяснение лежит в плоскости реальных интересов отдельных социальных групп, общественных организаций, государственных структур.
Многое зависело и от текущей политической ситуации. Империя Хань после периода расцвета, когда она охватывала пятую часть всего населения Земли, стала расшатываться и клониться к упадку. В III веке н. э. ее постоянно сотрясали восстания и социально экономические кризисы. Остро стоял вопрос об укреплении царской власти, создании общенациональных кумиров государственников. Одному из них суждено было стать Гуань Юю, превратившемуся в мифологического героя Гуань ди.
Лю Сю, известный в истории как император Гуан У-ди (25 - 57), провозгласил эру мира и объявил, что будет действовать по примеру своего предка Лю Бана. Он понимал, что в обстановке полыхающих по всей стране восста ний и хозяйственной разрухи нельзя действовать только силой.
Решительно и жестоко расправляясь с народными движениями, Лю Сю вместе с тем издавал указы, несколько облегчающие положение населения - как свободного, так и рабов. B ходе восстаний 18 - 28 гг. многие рабы были освобождены повстанцами или бежали сами.
После подавления народного движения Гуан У-ди не только не предпринимал попыток возвратить рабов прежним владельцам, но и неоднократно издавал указы об ограничении рабства и облегчении положения рабов. Рядом указов 26-37 гг. были объявлены свободными люди, продавшиеся в рабство из-за голода за время гражданских войн, а также люди, насильно обращенные в это время в рабство. Изданный Гуан У-ди «закон о продаже людей» был попыткой ограничить практику насильственного захва та и продажи в рабство свободных. B 31 r. был издан указ об освобождении некоторых категорий государственных рабов. Он гласил: «Те чиновники и люди из народа, которые во времена Ван Мана были схвачены и обращены в рабов за несогласие с прежними законами, должны быть освобождены и стать свободными». B 36 - 39 гг. Гуан У-ди издал несколько указов, освобождающих некоторые категории частных рабов в ряде областей империи. B 36 г. н. э.
был издан указ об ограничении права рабовладельцев на убийство рабов. Годом раньше императорским указом было запрещено клеймить частных рабов.
Ko времени правления Гуан У-ди хозяйственное значение областей в бассейне p. Вэйхэ, являвшихся основной житницей государства во II в, - середине I в.
До н. э., значительно падает в связи с запущенностью и разрушением ирригационной системы Вэйбэй и уступает место районам, расположенным к востоку от Чанани - на территории современных провинций Хэнани, Шаньдуна и Южного Хэбэя. B этих областях еще во второй половине I в. до н. э. местными властями были созданы ирригационные сооружения, способствующие их экономическому подъему. В начале I в. н. э. области, расположенные на территории Великой Китайской равнины, стали наиболее развитыми в экономическом отношении. B связи с возросшим хозяй-
Битва на мосту.
Ханьский каменный рельеф из погребального храма ссмьи У и провинции Шаньдун. Середина II в. н. о.
ственным значением этих областей и упадком областей в долине Вэйхэ Гуан У-ди перенес столицу империи на восток, в г. Лоян. Как Гуан У-ди, так и его преемники обращали большое внимание на поддержку ирригационных сооружений в бассейне нижнего и среднего течения Хуанхэ.
При Гуан У-ди правительство предпринимало энергичные меры, чтобы наладить хозяйство страны. Чиновникам были отданы распоряжения о поощрении земледелия и шелководства. Беднякам, не имевшим земли, раздавались на льготных условиях государственные земли (гун-тянь). Переселенцев на несколько лет освобождали от налогов и повинностей.
Крупные владения опальных землевладельцев частично были распределены между людьми, лишившимися крова. Восстанавливалась и налаживалась государственная адми нистрация. Борьба с децентрализаторскими тенденциями крупных аристократических семей, усиливавшихся во время восстания и междоусобий, привела к успеху. Гуан У-ди удалось добиться укрепления и прежней централизации империи.
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:
личное имя - Лю Сю) (5 до н. э. - 57 н. э.) - кит. император с 25, основатель династии Поздняя Хань (25-220). Будучи представителем боковой ветви рода Лю, к к-рому принадлежали императоры Ранней (или Западной) династии Хань, Г. У-д. в период кризиса империи и непопулярного правления Ван Мана (9-23) сумел выдвинуться и стать одним из крупных военачальников. Одержав после смерти Ван Мана верх над соперниками, Г. У-д. провозгласил себя императором и перенес столицу из Чанъани на восток, в Лоян (отсюда др. назв. основанной им династии - Вост. Хань). Став императором, Г. У-д. жестоко подавил в 27 мощное нар. восстание "краснобровых" и принял вместе с тем ряд мер для преодоления последствий кризиса: издал декреты о снижении налогов, ограничении рабства, наделении бедняков и безземельных гос. землей, освобождении переселенцев на ряд лет от налогов и т. п. Восстановив разрушенное х-во страны, Г. добился значит. успехов в борьбе с децентрализаторскими тенденциями аристократии и укрепил свою власть. Вновь завоевав сев. часть Вьетнама (Бакбо), признавшую зависимость от Китая, Г. У-д. положил начало активной внеш. политике Вост. Ханьской империи. Л. С. Васильев. Москва.